Женщина создана для любви, рождения детей и семейного уюта. Она требует защиты и опеки… Но жизнь порой вносит свои коррективы… Хоть и говорят, что война — совсем не женское дело, но если будет нужда, многие представительницы прекрасного пола становились в ряды добровольцев и шли на фронт Эти жуткие, трогательные, подчас счастливые, но чаще — грустные истории стоит прочесть каждому.
Путь женщин во Второй мировой — это тернистый и страшный путь, но это — дорога силы духа и неимоверных подвигов.
Истории женщин на фронте были собраны белорусской писательницей Светланой Алексиевич, лауреатом Нобелевской премии, в книге «У войны не женское лицо». Бывшие героини фронтов рассказали, чего на самом деле стоила наша победа, как складывалась их судьба после окончания войны. Эти крохотные детали, на первый взгляд, не самые важные, навсегда врезаются в память.
Мы публикуем отрывки из воспоминаний женщин, прошедших Вторую мировую войну.
Ефросинья Григорьевна Бреус, капитан, врач
«Лето… Последний мирный день… Вечером мы на танцах. Нам по шестнадцать лет. Мы ходили еще компанией, проводим вместе одного, потом другого. У нас не было, чтобы отделился кто-то парой. Идем, допустим, шесть мальчиков и шесть девочек.
И вот уже через две недели этих ребят, курсантов танкового училища, которые нас провожали с танцев, привозили калеками, в бинтах. Это был ужас! Ужас! Если услышу: кто-нибудь смеется, я не могла этого простить. Как можно смеяться, как можно чему-то радоваться, когда такая война идет?
Скоро отец ушел в ополчение. Дома остались одни малые братья и я. Братья были с тридцать четвертого и тридцать восьмого года рождения. И я сказала маме, что пойду на фронт. Она плакала, я и сама ночью плакала. Но удрала из дома… Написала маме из части. Оттуда она вернуть меня уже никак не могла…»
Вера Иосифовна Хорева, военный хирург
«Мечтали… Хотели воевать…
После карантина, перед принятием присяги, старшина привез обмундирование: шинели, пилотки, гимнастерки, юбки, вместо комбинации – из бязи пошитые по-мужски две рубахи с рукавами, вместо обмоток – чулки и американские тяжелые ботинки с металлическими подковами во весь каблук и на носках. В роте по своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой, рост сто пятьдесят три сантиметра, обувь тридцать пятого размера и, естественно, военной промышленностью такие мизерные размеры не шились, а уж тем более Америка нам их не поставляла. Мне достались ботинки сорок второго размера, надевала и снимала их, не расшнуровывая, и такие они тяжелые, что я ходила, волоча ноги по земле. От моего строевого шага по каменной мостовой высекались искры, и ходьба была похожа на что угодно, кроме строевого шага. Жутко вспомнить, каким кошмарным был первый марш. Я готова была совершить подвиг, но не готова была вместо тридцать пятого носить сорок второй размер. Это так тяжело и так некрасиво! Так некрасиво!
Командир увидел, как я иду, вызвал из строя:
– Смирнова, как ты ходишь строевым? Что, тебя не учили? Почему ты не поднимаешь ноги? Объявляю три наряда вне очереди…
Я ответила:
– Есть, товарищ старший лейтенант, три наряда вне очереди! – повернулась, чтобы идти, и упала. Выпала из ботинок… Ноги были в кровь стерты….
Тогда и выяснилось, что ходить я уже не могла. Ротному сапожнику Паршину дали приказ сшить мне сапоги из старой плащ-палатки, тридцать пятого размера…»

Вера Борисовна Сапгир, сержант, зенитчица
«Самое невыносимое для меня были ампутации… Часто такие высокие ампутации делали, что отрежут ногу, и я ее еле держу, еле несу, чтобы положить в таз. Помню, что они очень тяжелые. Возьмешь тихонько, чтобы раненый не слышал, и несешь, как ребенка… Маленького ребенка… Особенно, если высокая ампутация, далеко за колено.
Я не могла привыкнуть. Раненые под наркозом стонут или кроют матом. Трехэтажным русским матом. Я всегда была в крови… Она вишневая… Черная… Маме я ничего не писала об этом. Я писала, что все хорошо, что я тепло одета, обута. Она же троих на фронт отправила, ей было тяжело…»

Елена Антоновна Кудина, рядовая, шофер
«У нашей матери не было сыновей… Росло пять дочерей. Объявили: “Война!”. У меня был отличный музыкальный слух. Мечтала поступать в консерваторию. Я решила, что слух мой пригодится на фронте, я буду связисткой. Эвакуировались в Сталинград. А когда Сталинград был осажден, добровольно пошли на фронт. Все вместе. Вся семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени уже воевал…»

Евгения Сергеевна Сапронова, гвардии сержант, авиамеханик
«До войны я работала в армии телефонисткой… Наша часть находилась в городе Борисове, куда война докатилась в первые же недели. Начальник связи выстроил всех нас. Мы не служили, не солдаты, мы были вольнонаемные.
Он нам говорит:
– Началась война жестокая. Вам будет очень трудно, девушкам. И пока не поздно, если кто хочет, можете вернуться к себе домой. А те, кто пожелает остаться на фронте, шаг вперед…
И все девушки, как одна, шаг вперед сделали. Нас человек двадцать. Все готовы были защищать Родину. А до войны я даже военные книжки не любила, любила читать про любовь. А тут?!
Сидели за аппаратами сутками, целыми сутками. Солдаты принесут нам котелки, перекусим, подремлем тут же, возле аппаратов, и снова надеваем наушники. Некогда было помыть голову, тогда я попросила: “Девочки, отрежьте мне косы…»
Вера Сафроновна Давыдова, рядовой пехотинец
«Ты спрашиваешь, что на войне самое страшное? Ждешь от меня… Я знаю, чего ты ждешь… Думаешь: я отвечу: самое страшное на войне – смерть. Умереть.
Ну, так? Знаю я вашего брата… Журналистские штучки… Ха-ха-а-а… Почему не смеешься? А?
А я другое скажу… Самое страшное для меня на войне – носить мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то… Я не выражусь… Ну, во-первых, очень некрасиво… Ты на войне, собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские трусы. В общем, ты выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные. Широкие. Шили из сатина. Десять девочек в нашей землянке, и все они в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года.
Перешли советскую границу… Добивали, как говорил на политзанятиях наш комиссар, зверя в его собственной берлоге. Возле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и… И! И! И! Привезли в первый раз женские трусы и бюстгальтеры. За всю войну в первый раз. Ха-а-а… Ну, понятно… Мы увидели нормальное женское белье…
Почему не смеешься? Плачешь… Ну, почему?»

Екатерина Михайловна Рабчаева, рядовая, санинструктор
«Никогда не знаешь своего сердца. Зимой вели мимо нашей части пленных немецких солдат. Шли они замерзшие, с рваными одеялами на голове, прожженными шинелями. А мороз такой, что птицы на лету падали. Птицы замерзали. В этой колонне шел один солдат… Мальчик… У него на лице замерзли слезы… А я везла на тачке хлеб в столовую. Он глаз отвести не может от этой тачки, меня не видит, только эту тачку. Хлеб… Хлеб… Я беру и отламываю от одной буханки и даю ему. Он берет… Берет и не верит. Не верит… Не верит!
Я была счастлива… Я была счастлива, что не могу ненавидеть. Я сама себе тогда удивилась…»
Ольга Митрофановна Ружницкая, медсестра
«Умирать… Умирать я не боялась. Молодость, наверное, или еще что-то… Вокруг смерть, всегда смерть рядом, а я о ней не думала. Мы о ней не говорили. Она кружила-кружила где-то близко, но все – мимо. Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый. “Не ходи, убьют, – не пускали меня бойцы, – видишь, уже светает”.
Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому: “Заслуживает награды”.
В девятнадцать лет у меня была медаль “За отвагу”. В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги… И меня посчитали убитой…
В девятнадцать лет… У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее – и не верю. Дите!
Когда я приехала домой с фронта, сестра показала мне похоронку… Меня похоронили…»
Надежда Васильевна Анисимова, санинструктор пулеметной роты
Эти картины в моей памяти…
Обычная поляна… Мокро, грязно после дождя. Стоит на коленях молодой солдат. В очках, они без конца у него падают почему-то, он их поднимает. После дождя… Интеллигентный ленинградский мальчик. Трехлинейку у него уже забрали. Нас всех выстроили. Везде лужи… Мы… Слышим, как он просит… Он клянется… Умоляет, чтобы его не расстреливали, дома у него одна мама. Начинает плакать. И тут же его – прямо в лоб. Из пистолета. Показательный расстрел – с любым так будет, если дрогнет. Пусть даже на одну минуту! На одну…
Этот приказ сразу сделал из меня взрослую. Об этом нельзя было… Долго не вспоминали… Да, мы победили, но какой ценой! Какой страшной ценой?!
Начался бой. Огонь шквальный. Солдаты залегли. Команда: “Вперед! За Родину!”, а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели: девчонка поднялась… И они все встали, и мы пошли в бой…
Вручили мне медаль, и в тот же день мы пошли на задание. И у меня впервые в жизни случилось… Наше… Женское… Увидела я у себя кровь, как заору:
– Меня ранило…
В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. Он ко мне:
– Куда ранило?
– Не знаю куда… Но кровь…
Мне он, как отец, все рассказал…
Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься – зубы скрипят. Вспоминаешь – где ты? Там или здесь?
Кончилась война, у меня было три желания: первое – наконец я не буду ползать на животе, а стану ездить на троллейбусе, второе – купить и съесть целый белый батон, третье – выспаться в белой постели и чтобы простыни хрустели. Белые простыни…»
Любовь Аркадьевна Чарная, младший лейтенант, шифровальщица
«На фронте сразу попала со своей частью в окружение. Норма питания – два сухаря в день. Хоронить убитых не хватало времени, их просто засыпали песком. Лицо закрывали пилоткой… “Если выживем, – сказал командир, – отправлю тебя в тыл. Я раньше думал, что женщина здесь и двух дней не выдержит. Как представлю свою жену…”
Я расплакалась от обиды, для меня это было хуже смерти – сидеть в такое время в тылу. Умом и сердцем я выдерживала, я не выдерживала физически. Физические нагрузки… Помню, как таскали снаряды на себе, таскали орудия по грязи, особенно на Украине, такая тяжелая земля после дождя или весной, она как тесто. Даже вот выкопать братскую могилу и похоронить товарищей, когда мы все трое суток не спали… даже это тяжело. Уже не плакали, чтобы плакать тоже нужны силы, а хотелось спать. Спать и спать.
На посту я ходила без остановки взад-вперед и стихи вслух читала. Другие девчонки песни пели, чтобы не упасть и не заснуть…»

Мария Васильевна Жлоба, подпольщица
В сорок третьем году родила дочку… Это уже мы с мужем пришли в лес к партизанам. На болоте родила, в стогу сена. Пеленочки на себе сушила, положу за пазуху, согрею и опять пеленаю. Вокруг все горело, жгли деревни вместе с людьми. В школы сгоняли, в церкви… Обливали керосином… У меня моя пятилетняя племянница – она слушала наши разговоры – спросила: “Тетя Маня, когда я сгорю, что от меня останется? Только ботики…”. Вот о чем наши дети нас спрашивали…
После этого куда бы меня не посылали, я не боялась. Ребеночек у меня был маленький, в три месяца я его уже на задание брала.
Комиссар меня отправлял, а сам плакал… Медикаменты из города приносила, бинты, сыворотку… Между ручек и между ножек положу, пеленочками перевяжу и несу. В лесу раненые умирают. Надо идти. Надо! Никто другой не мог пройти, не мог пробраться, везде немецкие и полицейские посты, одна я проходила. С ребеночком. Он у меня в пеленочках…
Теперь признаться страшно… Ох, тяжело! Чтобы была температура, ребеночек плакал, солью его натирала. Он тогда красный весь, по нем сыпь пойдет, он кричит, из кожи лезет. Остановят у поста: “Тиф, пан… Тиф…”. Они гонят, чтобы скорее уходила: “Вэк! Вэк!”. И солью натирала, и чесночок клала. А дитятко маленькое, я его еще грудью кормила.
Как пройдем посты, войду в лес, плачу-плачу. Кричу! Так дитятко жалко. А через день-два опять иду…»
Мария Васильевна Тихомирова, фельдшер
«Моя судьба сразу решилась…
В военкомате висело объявление: “Нужны шоферы”. И я окончила курсы шоферов… Шестимесячные… Даже не обратили внимания на то, что я учительница (до войны в педтехникуме училась). Кому в войну нужны учителя? Нужны солдаты. Нас много девочек было, целый автобат.

Однажды на учениях… Я не могу это без слез почему-то вспоминать… Была весна. Мы отстрелялись и шли назад. И я нарвала фиалок. Маленький такой букетик. Нарвала и привязала его к штыку. Так и иду.
Возвратились в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня. Я выхожу… И забыла, что у меня фиалки на винтовке. А он меня начал ругать: “Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов”. Ему было непонятно, как это в такой обстановке можно о цветах думать. Мужчине было непонятно… Но я фиалки не выбросила. Я их тихонько сняла и в карман засунула. Мне за эти фиалки дали три наряда вне очереди…
Другой раз стою на посту. В два часа ночи пришли меня сменять, а я отказалась. Отправила сменщика спать: “Ты днем постоишь, а я сейчас”. Согласна была простоять всю ночь, до рассвета, лишь бы послушать птиц. Только ночью что-то напоминало прежнюю жизнь. Мирную.
Когда мы уходили на фронт, шли по улице, люди стояли стеной: женщины, старики, дети. И все плакали: “Девчонки идут на фронт”. Нас шел целый батальон девушек.
Я – за рулем… Собираем после боя убитых, они по полю разбросаны. Все молодые. Мальчики. И вдруг – девушка лежит. Убитая девушка… Тут все замолкают…»



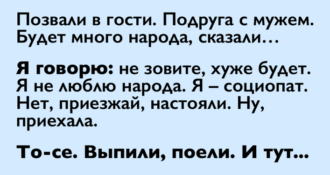


 Казино Чемпион игровой автомат
Казино Чемпион игровой автомат